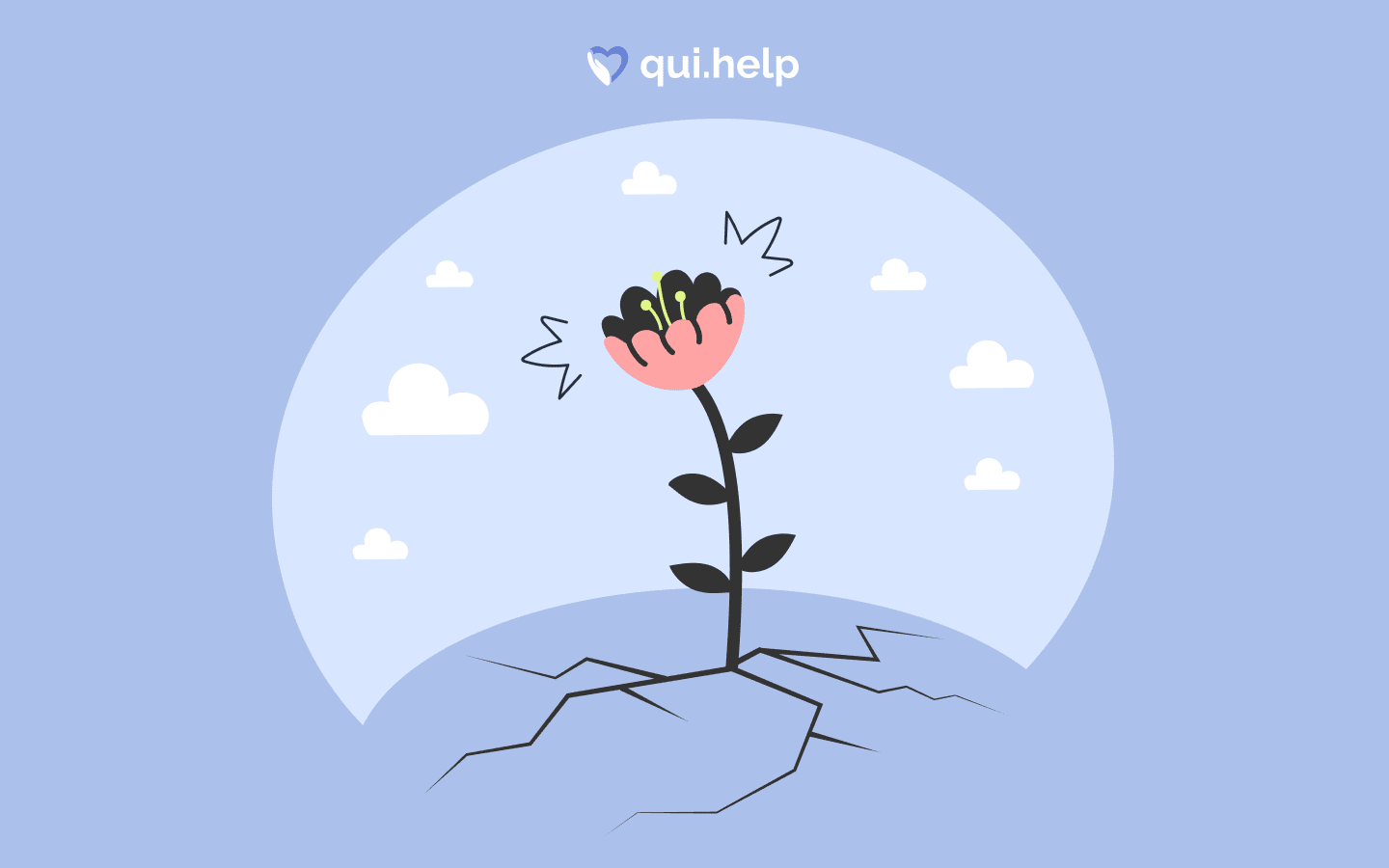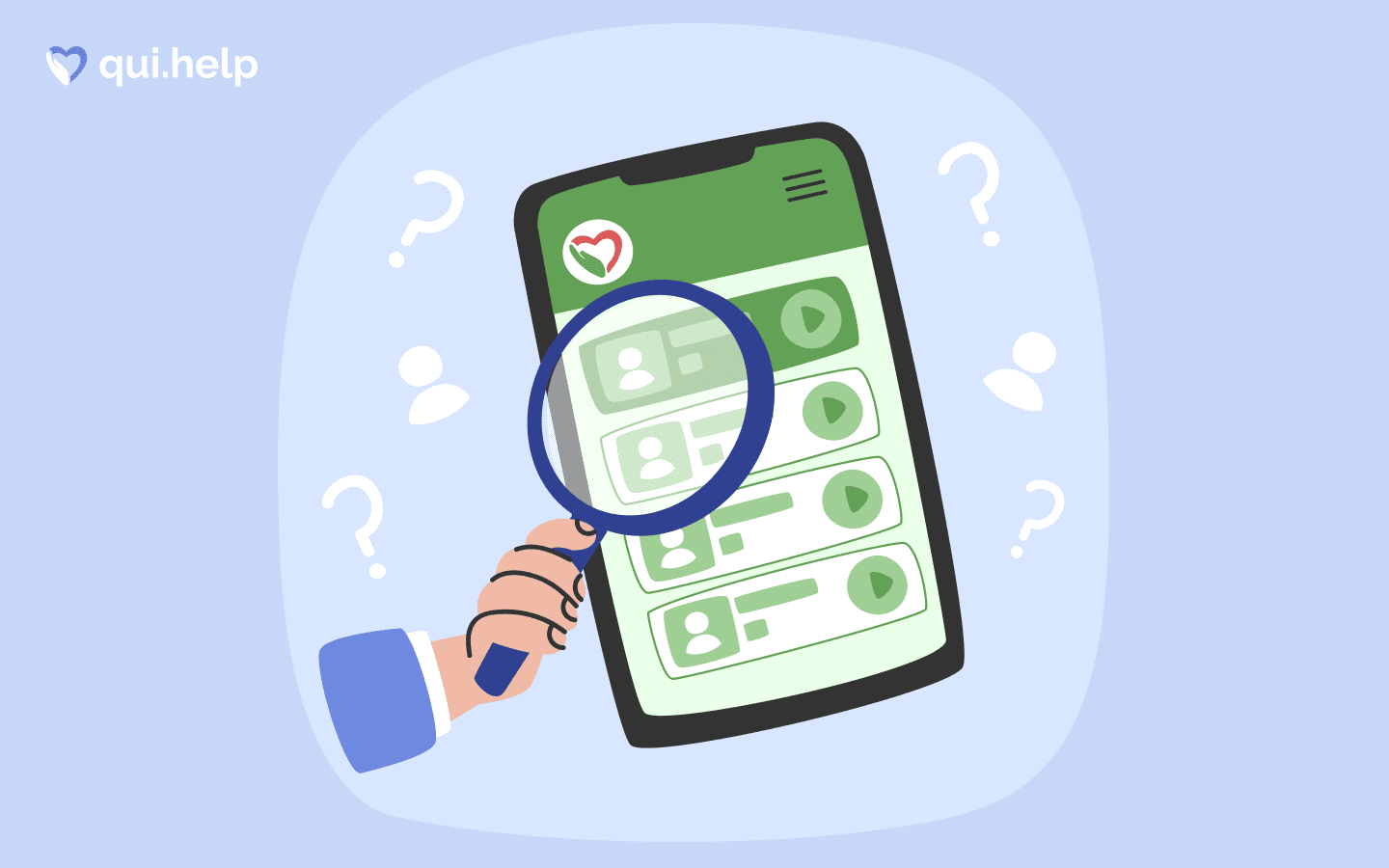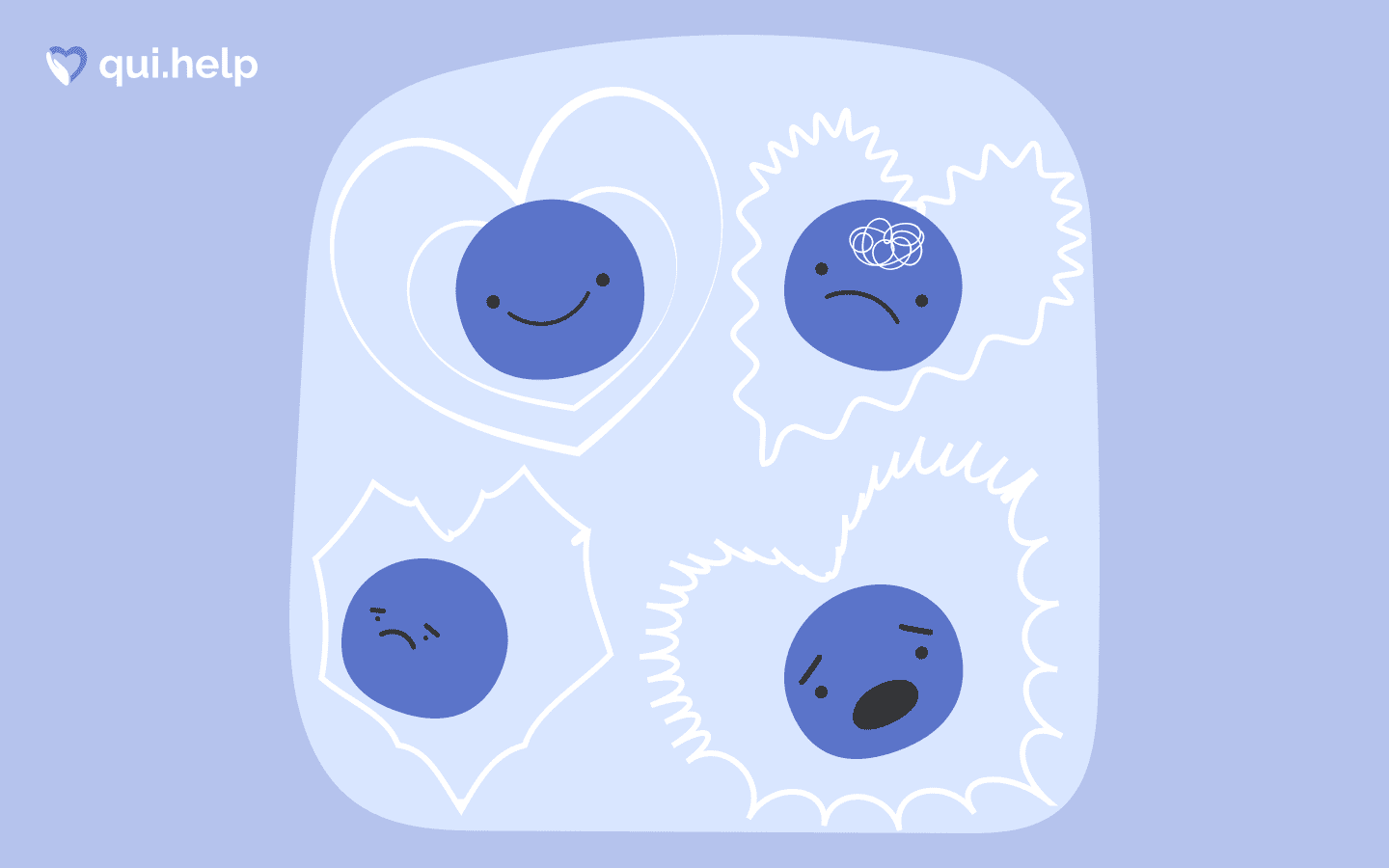Готові до змін на краще?
Знайти психологаПонятие автоматические мысли было предложено теоретиком когнитивной психотерапии Аароном Беком. Альберт Эллис обозначал их как внутренний диалог.
Специфика автоматических мыслей заключается в том, что человек воспринимает их не критично, без предварительного размышления и оценки их точности и адекватности. Они выступаю своего рода априорными убеждениями, как будто бы обоснованными и целесообразными, само собой разумеющимися, привычными и безальтернативными.
Подобные мысли – своего рода когнитивные ярлыки. Они позволяют не особо задумываясь, автоматически интерпретировать и определенным образом (стереотипно) оценивать все, что происходит вокруг – все что осязается, чувствуется, видится или слышится. Происходящее оценивается поляризовано как плохое или хорошее, приятное или дискомфортное, красивое или безобразное, безопасное или рискованное. В сфере применения автоматических мыслей мы пытаемся найти смыл своей жизни, но, очевидно, это сделать затруднительно, поскольку диапазон оценивания и категоризации оказывается достаточно узок и стереотипен. Значения рождаются в ходе нескончаемых внутренних диалогов, которые человек ведет сам с собой, порой путаясь в хаосе собственных мыслей. Нередко это мимолетные мысли, слабо мерцающие на границах осознанности, но достаточные для того, чтобы вызвать сильные эмоции.
Среди основных особенностей автоматических мыслей выделяют следующие:
1. Стенографичность. Автоматические мысли состоят коротких фраз или нескольких ключевых слов. Такие фразы или слова играют роль ярлыка для группы болезненных воспоминания, тревог, долженствований или упреков в свой адрес: «Я этого не вынесу…», «Ничего хорошего уже не будет…», «Все как всегда…». Как правило они глубоко оценочны и предвзяты. Нередко автоматические мысли вообще не нуждаются в речевом обозначении. Они могут возникнуть как образ, запах, физическое ощущение или воображаемый звук. Иногда это короткий эпизод из воспоминаний или некое интуитивное знание о том «как все есть», «как должно быть» или «почему все именно так произошло». Но, чаще всего, автоматические мысли – это все-таки оценочные речевые формулы.
2. Реалистичность. Они не подлежат сомнениям. Какими бы нелогичными, странными или абсурдными не казались автоматические мысли, они обладают значительным правдоподобием и иллюзорной подлинностью. Субъективно они выглядят столь же очевидными и реалистичными, как и вся повседневная жизнь.
3. Самопроизвольность. Они воспринимаются как возникающие самопроизвольно, спонтанно, по причине происходящих событий. Они внезапно появляются, не связаны никакими логическими отношениями с другими мыслями и не успеваю стать рефлексируемыми и логически обоснованными.
4. Устойчивость. Они сопротивляются изменениям и подавлению. Их сложно просто так «выключить», поскольку за ними, в глубине психики скрыты бессознательные факторы. Для нашего сознания автоматические мысли звучат весьма убедительно. Они незаметно вплетаются в ткань сознания, в текст наших повествований, оценок и впечатлений. Они становятся частью наших внутренних диалогов. Они исчезают также внезапно, как и появляются. Одна автоматическая мысль может вызывать другую, выступая для нее своего рода ассоциативным сигналом. Мы не ошибемся если предположим определенную степень автономности от личности субъекта тех мыслей, которые приобретают характер автоматических.
5. Не редко они носят характер долженствований. «Я должна…», «Мне следует…», «Я обязан…», «Мне необходимо…». Все это может касаться внутренней необходимости быть энергичным, красивым, ответственным, обязательным, креативным, любящим и пр. Несоответствие долженствованиям автоматически вызывает чувство вины и «обрушение» самооценки. Долженствования крайне сложно искоренить, поскольку они в некотором роде адаптивны. По своему происхождению это жизненные правила, которые в определенных условиях и обстоятельствах срабатывали эффективно. Но по мере изменения ситуации они приобрели характер внутренних требований, не всегда соответствующих реальности или актуальным возможностям человека, при этом становясь ассоциированными с недовольством собой.
6. Катастрофичность. Не редко автоматические мысли отображают происходящее в самом ужасном свете. Они предсказывают катастрофу, заставляя человека видеть вокруг себя преимущественно опасность, настраивают восприятие на худший исход событий. В этом тоже присутствует некоторая адаптивная функция, поскольку катастрофизация готовит сознание к опасности и стрессам. Это та причина, в связи с которой преодолеет катастрофизацию личных прогнозов бывает не всегда просто.
7. Уникальность. Они относительно уникальны и всегда персонализированы. Каждая реакция основана на уникальном восприятии события и вызывает абсолютно разные эмоции. Характер автоматических мыслей связан с личной историей человека.
8. Иррелевантность публичным высказываниям. Автоматические мысли – это элементы внутреннего мира субъекта, они всегда что-то очень личное, интимное, тайное. По этой причине во многих случаях автоматические мысли, возникающие во внутреннем диалоге, отличаются от наших публичных высказываний. Аутентична речь как правило диссоциирована в отношении публичной речи. В большинстве случаев мы общаемся с окружающими иначе, нежели с самими собой. Более того, в полной мере пережать другому происходящее в собственной душе, как это представлено для нас самих, оказывается практически невозможно. Другой может лишь со стороны увидеть нас, представить себе содержание нашего повествования. Но внутренне пережить персональный опыт другого, стать на его внутреннюю позицию невозможно.
9. Аутентичность. Как следует из выше сказанного, автоматические мысли во много аутентичны. Они характеризуют, не смотря на свою дисфункциональность, внутреннюю позицию самого субъекта, характер его самосубъектных отношений, его субъективное, и, во много, предвзятое мнение. В них выражено субъективное видение мира и личное (оценочное) отношение к другим. Не смотря на свои специфические ограничения, у каждого, отдельно взятого субъекта, автоматические мысли имеют свои характерные «оттенки».
10. Цикличность. Они замкнуты на самих себе и в кругу определенного рода проблемных прогнозов, ожиданий и оценок. Автоматические мысли включены в циклы поведенческих реализаций. Они находятся в ассоциативных связях с поведенческими и эмоциональными паттернами. Гнев, раздражительность, обидчивость, чувство вины, тревога – элементы циклического функционирования автоматических мыслей. Находясь внутри подобных циклов, субъект может ощущать собственную поглощённость ими и затруднительность выхода из этого круга предопределенностей. Это может переживаться как безвыходность, как тупиковость, монотонность и однообразие жизни – но за всеми этими концептами, также скрываются определенного рода автоматические мысли. Собственно говоря, идея тупиковости и безвыходности, также может представлять собой автоматическую мысль: «Ситуация безвыходна», «Я в тупике».
11. Селективность. Будучи замкнутым (зацикленным) на одних и тех же проблемных ситуациях, человек замечает лишь одну сторону проблемы, определенные ее аспекты, не воспринимая все множество других вариантов ситуации. Автоматические мысли определяют исключающую избирательность восприятия.
12. Внушаемость. С раннего детства наше восприятие и характер когнитивных операций формируются определенным образом. Семья, друзья, окружение, среда, учебные учреждения, поступающая к нам информация предопределяют способы оценивания и интерпретации нас самих, других, происходящего с нами и вокруг нас. Часть когнитивных схем несомненно формируются в ходе личного развития, но другая значительная их часть интроецируется. Изначально они могут принадлежать семейной системе или социальной среде. Некритично усваивая их, мы формирует способы интерпретации самих себя и происходящего с нами. Именно такие относительно автономные и аутентичные способы оценивания и лежат в основе автоматических мыслей.